Личность и музыкальное слово
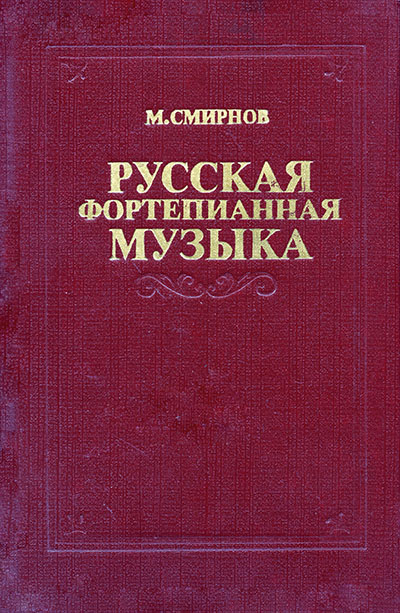
Умное слово о музыке ценимо всеми. Особенно теми, кто устремлен к более глубокому «интеллектуальному сопряжению» с искусством в надежде проникнуть в таинство (и проникнуться таинством) искусства звуков. Умная книга о музыке выводит и профессионала, и любителя из четырех стен устоявшегося кругозора, раздвигает пространство представлений и приобщает к звучащим сокровищам искусства через проникновение в неосознанное, недослышанное, не рассмотренное скользящим взором, не осмысленное в системе сравнений. Книга ведет и вглубь, и вширь, помещая конкретный феномен в мировой культурный контекст. Книга об искусстве — в определенном смысле такое же произведение, как и сам феномен искусства. Необычайно сложна задача, поставленная автором самому себе: быть (чувственно, разумом) в самом произведении и одновременно — в стороне, «на дистанции рассмотрения», в стороне — то есть в том самом контексте мировой духовности, которая соединяет нерасторжимыми узами и музыкальный феномен, и автора книги, и читателя.
Не все, кто занят в искусстве, ищут такие книги. И тем самым совершают действие вычитания. Но те, кто дает себе труд соотнестись с умными текстами, получают импульс для собственных размышлений, в ходе которых возможен либо кардинальный перелом, либо дополнение собственных воззрений и ощущений, либо отвержение чуждого и окончательное укрепление своего. Именно о таких книгах я и поведу речь, хотя и созданы они были в 80-е годы минувшего столетия и посвящены исключительно тому, что принято называть музыкальной классикой, то есть тому, что и сегодня составляет основу «звучащего пространства» для всех, кто не вскормлен до уровня «зомби» шоу-индустрией. В этих книгах, созданных пианистом, диапазон рассмотрения — от Баха до Прокофьева (и не дальше). Тот, кто ищет сведений о новейшем, не возьмет эти книги в руки. И совершит ошибку, ибо в них предложены совершенно новые (и универсально значимые!) соотнесения музыкальной идеи с вопросами психологии, национального самосознания, грани которого понятийно обозначены прежде всего в литературе.
Читатель может возразить: искусство, которое сегодня принадлежит народу, в сущности, искусством не является, классика — удел интеллектуальных элит, а книги, посвященные психологическим и эстетическим аспектам высокого искусства, уж вовсе замкнуты на чрезвычайно узком круге. Но мне подумалось, что книга, если она несет в себе остро выраженный знак индивидуальности, ее создавшей, в определенной степени может быть уподоблена явлению искусства. А искусство, как известно, не имеет прогресса, и актуализация созданного ранее во времени новом — дело обычное. Действительно, тщетно стремиться к массовому воздействию высокого искусства в данное конкретное время. Искусство порождается своим временем, но уходит в перспективу истории и «работает» в ее непредвиденном и неопределимом пространстве. Искусство и массы — отношение, распыленное во времени. Идут века, и все нетленное соприкасается с новыми и новыми персонами меняющихся эпох, накапливая «массу соприкосновения».
Конечно, далеко не все книги, созданные в прошлом, могут быть с пользой прочитаны сегодня. Далеко не все они могут быть определены как сопричастные самому искусству. Речь о книгах особого рода, созданных творческой личностью, встревоженной и возбужденной разгоряченным разумом, полным и обожания искусства, и жаждой приблизиться к его смысловым глубинам, где таятся сокровенные догадки о человеческих сердцах. К тому же речь о книгах, отмеченных писательским мастерством, которое само увлекает читателя и слогом, и афористичностью постулатов, и тем самым «элементом неожиданности», который столь ценим в произведении собственно музыкальном. Словом, речь о книгах Мстислава Смирнова (далее — МС). Первая из них — «Русская фортепианная музыка» с подзаголовком «Черты своеобразия» — вышла в 1983 г., вторая — «Эмоциональный мир музыки» — в 1990 г. (обе — в издательстве «Музыка», Москва). И рекомендую я вернуться к ним сегодня не в последнюю очередь, чтобы подчеркнуть немеркнущий смысл музыкального слова, если оно несет в себе универсалии познания и должную меру «поэтического рационализма». Однако мой краткий очерк называется «Личность и музыкальное слово». С личности автора и следует начать.

Мстислав Анатольевич Смирнов (1924–2000) на протяжении полустолетия был теснейшим образом связан с Московской консерваторией. Все, кто его знал, сходятся на том, что это был человек, обладавший уникальным «суггестивным полем», — следствие уникальности таланта, характера, мышления и интуиции. Его роль в истории нашего музыкального дома сколь огромна, столь и не распознана до конца. Возможно, потому, что его просто-напросто отождествляли с самой консерваторией, в которой он выполнял функцию некоего фермента, ответственного за стабильность творческой атмосферы, которой мы дышали и которая, казалось, возникала сама собой. От него исходили волны светлой, созидающей энергетики, рождающей проясненность в душе, дружелюбие, оптимизм и живую неуспокоенность. МС был тем, про кого можно сказать: он вобрал в себя общую душу. А общая любовь не ищет ни склок, ни мелкотравчатой грызни. Эта общая любовь к общему делу. Он нес в себе это чувство, ибо безраздельно принадлежал консерватории, олицетворявшей для него всю огромность искусства, объявшего все страны и народы. Его коммуникативность была исключительной, потому что базировалась на всеми ощутимом желании «сделать лучше». Краеугольным камнем его ментальности была доброта.
Его феноменальный талант к устроению доброго и умного пространства деятельности был замечен сразу, и стезя организатора ему была уготована природно. Он дважды возглавлял фортепианный факультет в пору его высшего расцвета, в эпоху Нейгауза, Гилельса, Зака, Мержанова, Флиера, Фейнберга, когда Доренский, Горностаева, Башкиров, Вирсаладзе только начинали свой путь. 13 лет он отдал обязанностям на посту проректора по научной и концертной работе, результаты которой тогда имели всесоюзный резонанс. Наконец, М. А. Смирнов — многолетний заведующий кафедрой концертмейстерского мастерства — сложнейшей по своему внутреннему устроению кафедры, объединявшей, по сути, самые различные исполнительские силы одной из самых больших в мире консерваторий. Организационная деятельность съедала силы и, главное, время. Но сочинительство также было его природным даром и, соответственно, влечением. Эта сторона дарования стала залогом его посмертного действенного присутствия.
Описать его образ чрезвычайно сложно. Живая изменчивость, текучесть и одновременно — ощутимая константа характера, мышления, реакций. Необычайно подвижный темперамент, чувственное первенство в реагировании при удивительной аналитической глубине и точности суждений. От него исходило чувство постоянного внутреннего движения, кажущегося безостановочным, но книги говорят о другом — о способности к сосредоточению и твердой фиксации мысли, в которой, однако, чаще всего первенствует все та же чувственная интуиция. В большинстве случаев — безошибочная. В нем, несомненно, таился талант психолога, доставшийся ему по наследству. Отец МС — Анатолий Александрович Смирнов, выдающийся русский психолог, академик, возглавивший целое направление психологической науки и создавший свою школу.
Искусство и консерватория как его вместилище стали объектом безраздельного принадлежания, и собственная персона для него самого, похоже, мало что значила. Однако полное отсутствие гордыни не означало потери уверенности в себе, в собственном ощущении. Все оценки (порою резкие) несли оттенок определенной импульсивности, а потому абсолютной искренности. Чаще всего они были несдвигаемы под возможным давлением контр-мнений.
Зависть была ему бесконечно чужда. Он если и завидовал, то кому-то типа Моцарта. Говорил мне: «Подумай, я беру трезвучие — ну, беру, и все тут. Моцарт берет трезвучие — это начало волшебства, солнечный луч, упавший на тебя». Неподалеку от его дачи был дом, где жила Антонина Васильевна Нежданова. Он рассказывал, что каждое утро она выходила на крыльцо и звала: «Коленька-а-а-а!». Этот непередаваемой красоты звук, говорил он, до сих пор в ушах — есть же у людей таланты, принадлежащие только одному (свой собственный талант он, по-видимому, просто не замечал).
Наше искусство представлялось ему средоточием красоты. Им владело аполлоническое чувство красоты — той самой, которая пронизывает всю музыкальную классику. Только ее пропускал он в себя. Авангард был вне сферы внимания: он бежит красоты, и даже классики ХХ века порождали в нем не столько чувственный отклик, сколько рациональную заинтересованность. Суетность современных поисков, вихри конфликтов и столкновений «на стилевых полях», тонкие звуко-сонорные искусы и, уж конечно, громкое покусительство на фундаментальные основы искусства — все это проносится мимо него. Красота — удел классиков. Он говорит: «Это естественно, поскольку в их руках не находились такие средства терроризирования слушателей, которыми современный композитор с легкостью запугивает слушателя» («Эмоциональный мир музыки», с. 99). МС — учитель. Он отбирает то, что образует фундамент, — важнейшее и для обретения базы мастерства, и для накопления репертуара, взысканного подавляющей массой внимающих искусству. Он отбирает исключительно из прошлого то, без чего нет будущего у исполнительства. Он вне конъюнктуры. Он раб искренности.
Последняя лежала в основании его удивительного чувства юмора, которое было одним из свойств индивидуальности мышления и ярче всего проявлялось в атмосфере публичных собраний, как знак артистичности. Смирнов был душою самых различных коллективных акций: от праздничных застолий до заседаний Ученого совета. Последние вообще не обходились без его высказываний, которых ждали и которые всегда из глубин аналитической серьезности выпускали (как из клетки) «птичку». Эти «птички» — внезапные парадоксальные афоризмы, неожиданные, смешные (но чаще всего добрые) характеристики персонажей и коллизий — вызывали откровенный хохот всего совета. В них скрывался оттенок не только развлечения (моментного отвлечения), но и некоего протеста против рутинного течения сюжета.
Его юмор воспринимался как природная данность натуры, как естественное проявление все той же искренности. Со свойственной ему проницательностью он говаривал, как бы обращаясь к самому себе: взгляни на себя повнимательнее, покопайся в своей душе и найдешь такое, что, право же, лучше выразить музыкой (и не дай бог — словом). И если бытовая череда мгновений могла окрашиваться в цвета «конъюнктурной целесообразности», то служение искусству в его понимании подразумевало искреннюю правдивость в главном — в своем отношении к музыке. Во времена двуличности, раздвоенности, иносказаний, умолчаний и страха искусство для многих становилось убежищем, дающим возможность вольного самовыражения. Здесь МС был искренен до конца, не боясь в своих писаниях предстать «белой вороной». Как же! Все пишут о новейшем, создают теоретические концепции, изучают бурно эволюционирующие средства выражения, а он — о восприятии классики, да еще из глубин собственных чувственных подозрений. И не заметили тогда, что, ведомый собственным искренне выраженным ощущением искусства, он открывает совершенно новые дали и глубины вечно ускользающей смысловой тайны музыки.
***
Первая из двух представляемых мною книг Мстислава Смирнова посвящена русской теме, решаемой в преломлении (в пояснении) литературных откровений и психологической науки. Книга так и называется — «Русская фортепианная музыка» с подзаголовком «Черты своеобразия». При этом «русское» автором сразу объявляется как одно из наклонений европейского. Но выявление отличий — главная задача, ибо сходства определены жанровой сферой европейской континентальной традиции, равно как и суммой музыкально-грамматических норм в их общих очертаниях и в самом общем (главном) соответствии отстоявшимся универсалиям. Автор сразу заявляет: ищу не «языковые» признаки национального, не фольклорные «знаки присутствия», но исключительно характерности национального темперамента. А потому много цитирует литературные источники, где можно найти «формульные» определения из этой сферы представлений.
Смирнов не первый, кто покусился на поиск знаков национального в широком пространстве народной психики и народных чувствований. Вот краткие реплики из Асафьева: «Романтик бунтарства, протеста из принципа, он связан с той стихией русской души, которая бурлила в казачьих, разбойничьих, раскольничьих и стрелецких бунтах…». Не сразу подумаешь, что это может быть адресовано Скрябину. Но это именно о нем. И далее — о Рахманинове: «Русское он понимал как Чехов, как Бунин… „Колокола“ звучат как произведение, выросшее из тревожных национальных психологических состояний, из всегдашнего русского „будь начеку“ перед суровыми неожиданностями окружающей жизни»
Эти цитаты я привожу лишь для того, чтобы обнажить призыв к изучению интонационных особенностей, скрытых в глубинах народного характера, традиций культуры, истории и вообще в пространстве прошедшего времени. Асафьев лишь намечает путь познания национального через ассоциативное рассмотрение музыки, минуя обычно привлекаемые фольклорные предпосылки. Словом, Асафьев намечает возможность. МС превращает возможность в действие, повернув энергию исследования именно в это, по сути, неизведанное русло.
Две книги М. А. Смирнова создавались одна за другой в течение одного десятилетия, при этом вторая («Эмоциональный мир музыки») продолжает первую, развивая постулаты первой, двигаясь, в сущности, по тем же содержательным вехам. Но если «Русская фортепианная музыка» привлекает психологические постулаты на помощь уяснению природы собственно музыкальных движений, то «Эмоциональный мир музыки» психологическую основу окончательно ставит на равное место с музыкальным материалом как таковым. В первой книге он говорит, что следует доискаться «тайного» смысла музыки, дабы обнаружить проявления душевных процессов. Во второй же книге путь к «тайному смыслу» становится центральной задачей. И уже не всегда ясно, помогает ли тот или иной тезис из сферы психологии уяснить семантические напряжения музыкального движения, либо последнее иллюстрирует и обнажает первое. Но обе книги содержат попытку прорваться к представлению «контура содержания» музыки через ее восприятие. И сам он, автор, настаивает на первенстве личностно воспринятого всего, что касается отношения «психологическая структура человека — музыка». Конечно, здесь присутствует и личное восприятие, и личное осознание, то есть — осознанное восприятие.
Собственно внутреннюю стихию личностного восприятия Смирнов пытается (и небезуспешно!) систематизировать. Открещиваясь от «учености», он поступает как истинный ученый. В обеих книгах он прежде всего обозначает опорные группы (по три) стремлений, точнее — импульсных стремлений, присущих каждому человеку. В книге «Русская фортепианная музыка»: 1. Жажда борьбы, дерзаний, преодолений и свершений; 2. Стремление к покою, любви, нежности, к уходу в одиночество, в воспоминания etc.; 3. Стремление к проявлению радости, экстатического восторга, торжества освобождения. В книге «Эмоциональный мир музыки» МС обозначает три инициальных силы (те же импульсные стремления): 1. Сила преобразующего действия, энергия борьбы; 2. Сила антипреобразующая, тормозящая; 3. Сила конечного исхода, жажда удовлетворения, освобождения. Но при этом он говорит о постоянном смешении всех этих сил и стремлений, ввиду необыкновенной сложности психоструктуры самого человека. А музыка, говорит он, раскрывает каждому самого себя. Она — путь к себе.
МС понимает: попытаться изучить воспринятое можно лишь путем экстраполяции всего лично ощутимого на безусловно принятые и общезначимые постулаты психологии. Но личное оставляет «впереди». Вот одна из первых фраз второй книги (в еще большей мере актуальной и для первой): «Быть может, субъективное ощущение одним человеком в какой-то мере способно послужить объективным экспериментальным фактом, представить интерес и для серьезного ученого» (с. 3 цит. изд.). Вот уж типичная фраза МС: себя он в роли «серьезного ученого» не видит. И самая начальная фраза этой книги от первого лица музыканта, скромно занятого своим делом: «Сразу хочу сказать: эта книга скорее всего исповедь педагога, желающего честно и открыто изложить собственные мысли о музыке». Но вместе с тем! Он возносит личность творческую, личность создателя, а себе, однако, оставляет роль личности воспринимающей, но отважно рискующей обнажить, обнародовать собственные представления о воспринятом и чувственно, и интеллектуально. И вообще личное, индивидуальное Смирнов постоянно выдвигает на передний план. Он настойчиво провозглашает: национальное есть один из ликов всечеловеческого. Национальное — это и всеобщее, и личное. Он ссылается на Горького: «Личность в состоянии стать точкой концентрации тысяч вольт. И встает перед нами в дивном свете красоты и силы, в ярком пламени желаний своего народа». Однако МС предупреждает читателя: нельзя настаивать на каком-либо окончательном выводе по поводу того, как выражен в музыке национальный характер; можно лишь предполагать. Мы постоянно имеем дело с образом ощутимым, но ускользающим от какой-либо жесткой формулы.
Книга «Эмоциональный мир музыки» вообще, по сути, ставит вопрос вопросов: что есть музыка? Наивно пытаться ответить на него. Автор призывает лишь задуматься над этим и в ходе размышлений (наблюдений, прежде всего над восприятием) нащупать тропу, по которой можно подобраться если не к ответу, то к какому-нибудь подозрению о сути. В книге о русском музыкальном своеобразии он говорит, что музыка — воплощение единого (многосложного) национального характера, во второй книге музыка для него уже воплощение единого мирового человека, единой общечеловеческой души, единого образа человека, «отражение мировых психологических сил». Но именно в первой книге, посвященной «национальному вопросу», он приводит универсально значимую цитату из Л. Толстого: «Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть всё: все возможности… Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо».
Подвижность, текучесть человеческих чувствований — объект самого пристального внимания автора книг. В этой текучести, как предусловии смешения сил и стремлений, в этом «таинстве душевных движений» (так и называется первая глава второй книги) МС видит неразрешимость окончательного ответа на вопрос «что есть музыка?». Познать конечный смысл сложноорганизованного «интонационного поля» мешает противоречивость самой человеческой натуры и, как следствие, — полисемантическая текучесть музыкальной композиции. «Парадоксы эмоционального мира» — название центральной главы книги «Эмоциональный мир музыки». Здесь автор предлагает читателю серию музыкально-психологических этюдов.
В первой книге он говорит, что следует доискаться «тайного» смысла музыки, чтобы высветить черты национального своеобразия русского фортепианного наследия. Но во второй путь к этому «тайному» становится центральной задачей. Он утверждает (подобно Л. Толстому) диссонантность человека, точнее, консонанс диссонантности в человеке. К примеру: что есть любовь, вопрошает он и отвечает: радость, страдание, освобождение, закабаленность, нежность, злоба, восторг, слезы, подъем сил, паралич, удивление, восхищение, проклятие — предел выражения жажды жизни. И добавляет: абсолютно бесперспективно пытаться зафиксировать формы выражения в музыке любви; мол, всякий оттенок осложнен иным, а пуще того — все раскрывается в мерцающем поле порою полярных звукосимволов, складывающихся в некий конечный смысловой сигнал.
Несомненно, он ощущал себя, когда говорил: «Гармония личности есть дисгармония». Это тоже от первого лица, и это тоже универсально значимый посыл, лежащий в основании серии музыкально-психологических портретов величайших представителей музыкального искусства. В сущности, это череда «психологических этюдов» (в главе «Гармония дисгармонии»), раскрывающих сугубо антропоморфную суть классического наследия. Важнейшее обстоятельство: автора интересует исключительно инструментальная музыка (и прежде всего — фортепианная не только в первой книге, но и во второй). Именно там, в музыке, не поясненной словом, то есть в «чистой» музыке, он ищет сплавы силы и тоски, радости и тревоги, героики и печали, восхождения и поникновения. Меланхолия и тоска фиксируются в значении предтечи действенного взрыва, как эмоциональное пространство, где зреет «энергия выхода». Именно в инструментальной музыке он фиксирует соседство разных состояний: внутренней устойчивости и непрочности достигнутого, чувства расстояния до цели и экстаза достижения… Как выразить суть лирико-драматической вибрации? — спрашивает он и предполагает, что русской фортепианной музыке весьма близка известная формула: «То разгулье удалое, то сердечная тоска».
Таков ход его чувствований и мыслей, которые при всей кажущейся спонтанности облекаются в весьма конкретную композиционную форму. В главе «Парадоксы эмоционального мира» МС обсуждает проблему выражения в музыке воли. Понятно — описание воли как психологической категории в основном заимствовано из сферы дефиниций психологической науки. Однако само изложение даже этого материала оказывается музыкально напряженным. Читатель постоянно ощущает не просто музыкальное склонение повествования, но его музыкальный исток. Ибо с самого начала он назначает «музыкальные знаки» в расшифровке этого сложнейшего понятия, знаки решительности, смелости, терпения, настойчивости и упорства, воли-ограничения, воли-противоборства, наконец, знаки контр-воли (покой, смерть, страдание); знаки любви и юмора тоже скоординированы с волей.
Вообще проблема воли оказывается в центре его внимания с самого начала, в книге «Русская фортепианная музыка», ибо именно в русской музыке он обнаруживает градации «чувственных энергий», то есть градации движений музыкальной материи, несущей смысл в самом характере этого движения. Волновой тип развития (восходящие и поникающие волны), натиск (как непрерывно длящееся волевое усилие), развитие с резким сдвигом, переломом действия (символика непокорности, своеволия, произвола, каприза), обострение (чувство внутреннего неблагополучия, скрытой и выявляемой дисгармонии). В лирической сфере он фиксирует состояния-символы мечты, томления, интонацию вздоха; гамма тоски выражена многозначно, как состояние постепенного роста радости; восторженно-экстатические состояния — устойчивый атрибут лирического круга, а сферу радости он вообще выводит из собственно музыкальных знаков: «хоровые» гимны, массовые пляски, особая роль остинато, знаки юмора, гротеска, экстаза (ликования). Особо выделена проблема «подготовки радости». Вся эта «смысловая рубрикация» проносится из первой книги во вторую и раскрывается (в той же системе обнаружения) в великом пространстве мировой классики.
В каком музыковедческом труде можно встретить такое? Уже в первой книге МС предупреждает читателя о почти полном отсутствии цитат из музыковедческих трудов, но тут же суетно добавляет, что он все прочитал и прочитанное служит основой. Лукавый музыкант МС. Он, конечно, прочитал — прежде всего шедевры русского литературного творчества и (очевидно) различные труды по психологии (в том числе, вероятно, труды своего отца). Но основой ему служит его собственное, личное восприятие музыки. Отсылки к психологии, философии, литературе нужны ему для «проясняющей проекции» на бессловесно-таинственную музыку. Забавно, но в книге «Русская фортепианная музыка» читатель иногда наталкивается на отсылки к Ленину, но чаще всего на те фрагменты его писаний, где он цитирует великих философов и литераторов. В сущности, это ссылки на цитаты с упоминанием первого пользователя. Во второй книге подобных ссылок уже нет. В 70-е годы это дань «протоколу», воплощенная столь типичным для времени «эзоповым способом». В 80-е подобные жесты перестают быть обязательными, и ссылки на классиков марксизма-ленинизма и даже на цитаты, приводимые классиками, исчезают.
Очевидно — автор хочет создать книги «для чтения», для музыкантов и даже для просвещенных любителей. Не для музыковедов. Поэтому он опирается на материал, который «на слуху», известен, устойчив в репертуаре (концертном или учебном). Русская фортепианная музыка вообще благодатнейшее поле. Подобно опере и симфонии, она принадлежит к числу основных видовых составляющих национального наследия. Почти вся она «в памяти», так же, как самые ходовые и знаменитые образцы европейской классики. Тем неожиданнее, пронзительнее ощутима внезапность «аналитического разворота» МС, предлагающего взглянуть на все это известное богатство с неизвестной стороны.
Ну, что ж, — скажет читатель. Старые книги о старой музыке. Зачем они теперь, когда музыка бежит от чувственности, устремленная к «цифре», к единственному концепту, несущему рационально рассчитанный алгоритм. Я возражу: книги, предлагающие теоретические концепции, — достояние науки, которая, как известно, имеет прогресс, означающий поглощение старого новым. Искусство же не имеет прогресса, поэтому «старая» музыка — это всегда «новая» музыка. «Старая» музыка, к которой обращается МС, — вечная музыка. А книги его отличаются особой эмоциональной «температурой» всей текстуальной подачи идеи, особым темпераментом изложения и богатейшей «литературной оркестровкой». Они действительно кажутся нелепыми сегодня, когда личность творца исчерпывается «концептом». А он тут со своим Я.
Наверное, у меня приступ ностальгии по живому слову. Музыкальному слову, наполненному волнением и подозрениями о чувственных смыслах. Я думаю о «спиральном» развитии и о возможности возвращения к чему-то потерянному в суете невиданных скачков цифровой цивилизации. Сейчас так не пишут, но и тогда так не писали. Книги МС — прецедент. Пока одинокий. Представьте кого-либо из музыковедческой братии в прошлом или сейчас, кто мог бы (сподобился бы!) завершить свой труд таким абзацем:
«Все книги пишутся с целью уверить, убедить читателя в чем-то. Моя же цель противоположная. Мне хотелось посоветовать читателю не верить ни во что из написанного здесь, а самому поддаться сиянию музыки и пройти свой собственный круг испытаний (а лучше сказать, наслаждений). Пусть каждый обратится к себе и с теми вопросами, с которыми адресовался к себе автор, и со всеми иными, самыми наивными, нелепыми, умными. Важно только быть откровенным с собой, не бояться признаться в своих слабостях. Пусть каждый пороется в собственной душе и чистосердечно признается в том, что он там обнаружил. Это подготовило бы условие для создания коллективной энциклопедии музыкального восприятия. Тогда, быть может, скорее удалось бы дружно ответить на вопрос вопросов, интересующий, вероятно, многих людей, — что же все-таки такое Музыка?».


