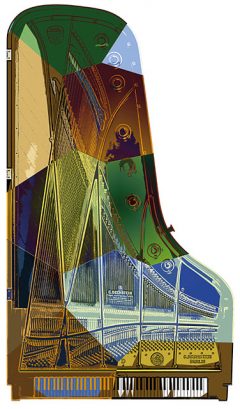Эссе
Тема классического наследия и его судьбы — первейшая в стремительно меняющихся условиях существования современного человечества. Взгляд на эту проблему из дня сегодняшнего позволяет приблизиться к осознанию новых черт ментальности и «цеховых» представителей искусства, и современного общества в целом. Проблема наследия теснейшим образом скоординирована с процессом культурной глобализации, с вопросами исторической общественной памяти и вообще — с проблемой организации культурного пространства.
Нашему Рахманинову 140 лет. Я говорю «нашему» не только потому, что он наш, российский по рождению и сущности своей. Он наш по определяющему знаку дня сегодняшнего. Он наш для людей XXI века, навсегда поместивших его в пантеон бессмертных. Он наш потому, что звучит в сущности ежедневно на огромном пространстве нашей российской суши. Он постоянно звучит на концертных эстрадах, театральных подмостках, в классах, в домах. Но и для мира он «наш», для той части мира, культура которой зиждется на европейских ментальных основаниях. Его интонационное поле несёт в себе знаки двух эпох: эпохи романтизма и экспрессионизма, отразившего напряжения нового века.
Общеизвестно — вначале было слово. И слово это было «модерн». Оно предшествовало слову «авангард». Слово modernus протянулось к нам из теологических глубин сумрачного пятого столетия, когда христиане осознали свое течение «современной» альтернативой языческой традиции. А вот задорное и жалящее слово «авангард» покинуло военно-тактические пределы лишь с началом т. н. Новой истории, т. е.— от времен Великой французской революции. И все равно не сразу пришло к искусству, задержавшись на долгое время в сфере политики. В конце концов искусство присвоило себе «авангардность», отмечая этой метафорой переломы, сдвиги, утопические декларации и всевозможные повороты от реалий жизни — к мифологемам времени.
В результате мы довольно-таки запутались: где кончается «модернизм» и начинается «авангардизм»? А пуще того: где кончается «авангардизм» и начинается «постмодернизм», и как последний соотносится с понятием «новой академичности»? Знатоки утверждают: модернизм — это атака на традиционную технику письма; авангардизм — атака на сам статус искусства. В крайних своих проявлениях — что-то вроде «самокритики искусства», этакий радикальный модернизм. Ортега-и-Гассет так прямо и говорит: «Нигде искусство не демонстрирует своего магического дара, как в этой насмешке над собой».
Когда закончилась эпоха романтизма? Когда эстетика романтизма оказалась выведенной из действия? Когда окончательно выразительные средства, копившиеся на долгом пути «эволюции романтического», покинули пределы творческого внимания? Все эти вопросы могут быть заданы творцам, исследователям искусства, культурологам. Бессмысленно задавать их исполнителям, которые и в наше время призывают романтическую музу как символ одухотворённой личности. Их усилиями эпоха романтизма продолжается и сегодня, все великие ценности романтических обретений живут и сверкают, как прежде. Но в творческих процессах, в сочинительстве произошел тектонический сдвиг, изменивший ландшафт нашего искусства. Исполнительский корпус не мог не откликнуться на это. Не только в силу того, что без исполнения нет музыкального явления вообще. Он не мог не приступить к процессу селекции, назначения «событийных качеств», извлечения из широчайшего контекста нового искусства знаковых акцентов, символических новооткрытий, резонирующих изменившемуся характеру бытия и новой ментальности.
2011-й завершает славную череду юбилейных лет великих романтиков. Сами эти слова — «романтизм», «романтики», «романтика» — несут в себе нечто крылатое, приподнятое над землей, противопоставленное тому, что оттеняется словами «рациональное», «целесообразное», «рассчитанное». Еще сравнительно недавно, оценивая «интонационное поле» второй половины ХХ века, мы имели основание предполагать, что прощание с великой эпохой романтиков состоялось. Антиромантизм воскликнул о себе металлическим громом новых «интонационных жесткостей», новым изяществом линеарной графики и ритмов. Однако возникшая тенденция признавалась господствующей, но не единственной. Даже в глубинах превалирующих антиромантических отторжений нередко прощупывался все тот же лирический «пульс сочувствия», который для романтиков был символом их главных устремлений. Даже после того, как завершилось накопление великих артефактов постромантизма, тектоническая инерция романтических импульсов не угасает в творчестве и в конце концов выливается в рождение новой «интонационной идеи», утвердившейся широко, преломившейся разнообразно идеи нео-романтизма.
В апреле 2011 исполнилось 120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. На страницах нашего журнала мы будем периодически возвращаться к этому великому имени, которое стоит в первом ряду тех, кто создавал «музыкальный образ» ХХ века. Его авторские привнесения приобрели значение универсалий нового музыкального языка. Многое из того, что составляет сущность его метода, явилось ему из глубин песенной традиции родной земли. Явилось не в виде экзотической одежды и опознавательных орнаментов, а в значении глубинных, как будто спрятанных оснований музыкально-поэтического мышления. В центре нашего внимания исключительно фортепианное наследие композитора, которое как будто свободно от фольклорных связей. Во всяком случае в таком контексте оно почти не обсуждается. На самом же деле здесь немало удивительных откровений.
Поль Гоген когда-то заметил: «Нет искусства, если нет преображения». Художник-живописец, преображая свой объект, создает последнюю версию творения. Композитор, создав сочинение, — ждет. Он ждет звуковой реализации, а значит — неизбежного преобразования, творящего соучастия иного «Я». И если говорить о рождении Искусства, то следует говорить о таком преобразовании, на которое способна воля, отмеченная озарением личностного чувствования объекта, талантом неповторимого прочтения. Здесь-то и вырастает гигантская проблема соучастия — реального воспроизведения, способного разрушить, вознести, или скудно, но, как говориться, «стилистически верно» изложить канву созданного композитором.
Это случилось в 1822 году. Одиннадцатилетний Лист играл в Вене, и на один из концертов пришел Бетховен. Пришел не случайно: он получил приглашение от Адама Листа — отца вундеркинда — и откликнулся. Быть может, он вспомнил сам себя в детстве и собственную раннюю славу, быть может, просто заметил общественную суету вокруг чудо-ребенка, быть может, его ученик Черни подал сигнал о совершенно особенном явлении, но как бы то ни было, это весьма необычный для него жест. Глубоко больной, уже совершенно глухой, постоянно погруженный в собственный звуковой мир, начавший как раз в ту пору вынашивать свою Missa solemnis, Бетховен дал себе труд прийти. Он не мог слышать происходящего. По свидетельству биографов, сел так, чтобы видеть руки пианиста и клавиатуру, и понял все. После концерта он тяжело поднялся на подиум, подошел к мальчику, обнял его, прижал к себе и поцеловал.
В теологических дебатах, в частности, фиксируется латинский догмат, означающий «более чем завершенное». Отвлекаясь от источника, породившего данную фиксацию, скажу, что определение это замечательным образом налагается на блистательное фортепианное наследие Шумана. «Более чем завершенное» (Donum divinitus datum supranaturale et admirabile) — это не просто «прошедшее время». «Более чем завершенное» — это прошедшее сквозь время и включенное в перечень опорных колонн исторической памяти человечества. Все созданное этим поэтом звуков (и слова!) в 30 е годы позапрошлого столетия стало одной из вечных вершин фортепианного наследия. Он рядом с Шопеном — нашим первым (мартовским) юбиляром, он рядом с Листом, к юбилейной дате которого мы идем, он рядом со многими другими, не создавшими наследия, к которому можно было бы добавить титул «более чем завершенное». Но он вне сравнения даже с равновеликими в силу абсолютной единственности.
Мы прощаемся с первым десятилетием XXI века. Кажется, что в ходе минувшей декады лет мы изжили в себе чувство принадлежания к прошлому столетию и ощутили себя людьми нового века.