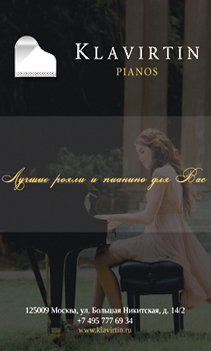Московский вернисаж мировой «транскриптиады»

Планируя новый номер «PianoФорум», мы не сразу пришли к мысли о том, под какой рубрикой разместить данный материал. Дело в том, что он перенасыщен репертуарными рекомендациями. И мы обращаем особое внимание читателя на это обстоятельство. Но одновременно — это отчет о весьма специфическом фестивале, замысел которого воплотился в виде «смотра молодых сил», и материал этот, представляя образ фестиваля, также информирует о самом важном — о концертно-пианистическом потенциале страны, потенциале, далеко не взысканном в должной мере и ждущем своего часа.
Череда явлений, наблюдавшихся на музыкальном небосклоне столицы в первую половину декабря 2011 года, вполне заслуживает наименования большого парада, только не планет, а транскрипций. Именно в это время в пределах и окрестностях Садового кольца счастливо совпали несколько значительных событий, так или иначе связанных с этим видом художественной деятельности. Во‑первых, это IV Международный фестиваль «Фортепианная транскрипция: история и современность», состоявшийся, как и все предыдущие, в Концертном зале ЦМШ «на Кисловке» и объединивший под своей эгидой десять концертов. Во‑вторых, концерт цикла «Восходящие звезды русской фортепианной школы», прошедший в Камерном зале Дома музыки и посвященный 50‑летию Марка-Андре Амлена — проект, организованный Отари Очхикидзе, энтузиастом транскрипторского творчества и горячим поклонником искусства канадского пианиста.
Обзор «большого парада транскрипций» даст возможность хотя бы немного разобраться в неожиданной популярности этого, еще так недавно почти презираемого вида творчества.
Сначала немного о природе явления. Под транскрипцией как таковой обычно подразумевается некое производное от оригинала, сохраняющее в общих чертах его формальную структуру. Поэтому, строго говоря, далеко не все произведения, о которых будет идти речь, имеют право называться именно транскрипциями. Нередко можно услышать словосочетание «жанр транскрипции». Однако «жанр» этот не обладает той универсальной генетической структурой, которая обуславливала бы некое формальное и содержательное единство всех своих образцов. Транскрипция — явление «прислонённое». Она нередко сохраняет жанр исходного произведения: транскрипция романса остаётся пусть инструментальным, но романсом, транскрипция марша из оперы остаётся маршем. Иногда транскрипцию причисляют к так называемым «вторичным жанрам». Но и это вряд ли оправдано, ведь жанровые средства довольно часто применяются в самой транскрипторской технике: например, Годовский на основе этюдов Шопена создаёт этюд-мазурку, этюд-полонез, этюд-скерцо. Что же, в этом случае появляется некий «третичный жанр»?
Транскрипция тесно взаимодействует с системой устоявшихся жанров. Такие родственные транскрипции явления, как хоральная прелюдия, вариации, каденция, концертная фантазия «на темы», фольклорная обработка, обладают всеми признаками жанра. С миром транскрипций их объединяет то, что объектом художественной деятельности становятся существующие произведения искусства. Создание новой формы на основе заимствованного материала считается в большей степени привилегией композитора, нежели исполнителя. Некоторые авторы обладают инстинктивной предрасположенностью к развитию чужих идей, которые ассимилируются ими в рамках собственного стиля. В музыке этим качеством отличались Бах, Гендель, Лист, Стравинский. Мотивы подобного «присвоения» могут быть различными: профессиональная любознательность, творческое копирование с целью ученичества, стремление поделиться художественным впечатлением, осознание своей причастности, духовного родства с определённой традицией. Исполнителями же чаще всего движет желание расширить репертуар: перенести понравившееся произведение в фортепианную сферу, дополнить корпус фортепианных сочинений любимого автора ещё одним опусом, создать эффектный «бисовый» номер.
Все перечисленные мотивы отчётливо наблюдались в декабрьском «параде транскрипций», который открылся фестивалем «Фортепианная транскрипция: история и современность». Впервые проведённый осенью 2008 года по инициативе профессора Московский консерватории А. Меркулова как дань памяти «рыцарю фортепианной транскрипции» — Сергею Георгиевичу Курсанову (1944–2006), фестиваль с каждым годом, что называется, «набирал обороты». Расширялись его география и количество участников, среди которых находилось место и признанным мэтрам, и восходящим «светилам» пианизма, а также одарённым учащимся. Нынешний фестиваль совпал с 60-летием его организатора, вдохновителя и бессменного ведущего — Александра Меркулова и, надеюсь, стал для него своеобразным подарком к этой славной дате.
Фестиваль поразил своими поистине раблезианскими масштабами: в его афишах присутствовали имена более 40 (!) транскрипторов, в нём участвовали около 70 (!) пианистов. Некоторые его концерты по своей протяжённости и уникальности программ были вполне достойны Книги рекордов Гиннесса и отличались такой содержательной широтой и интенсивностью, что могли удовлетворить даже самые алчные аппетиты наиболее фанатичных поклонников фортепианной игры. У менее же стойких слушателей многочасовые фортепианные вигилии рисковали вызвать невольные ассоциации с таким интеллектуальным пиршеством, как постановка всей вагнеровской тетралогии в один день. Как бы то ни было, фестиваль выявил огромный интерес представителей фортепианного цеха к исполнению и, что немаловажно, к созданию транскрипций, продемонстрировал невероятную творческую щедрость пианистов, их горячее стремление к контакту с публикой, желание быть услышанными, которое, видимо, не всегда находит адекватный отклик у пресыщенной столичной аудитории. Фестиваль показал также, сколько «хороших и разных» пианистов, достойных самых ответственных концертных площадок, выросло за последнее время, и как нерационально это огромное интеллектуальное и художественное богатство используется в современном социуме.
Программы концертов формировались по монографическому и тематическому принципам. Каждый из них имел свою тщательно продуманную «драматургию». Ретроспективы выдающихся виртуозов прошлого (Лист, Пабст, Зилоти) сменялись концертами под рубрикой «Авторский вечер транскриптора» — «творческими отчётами» современных авторов: Б. Франкштейна, А. Исаковой, И. Оловникова, К. Корниенко и автора этих строк. Содержание тематических концертов «Штраус-сюита» и «Кармен-сюита» вращалось вокруг притягательных центров повышенной транскрипторской активности — музыки «короля вальсов» И. Штрауса и оперы Ж. Бизе «Кармен».
Обсуждаемое фестивальное событие, по крайней мере, по объёму может соперничать со сказками «1000 и одной ночи». Поэтому вдвойне символично, что эпиграфом ко всему пианистическому празднеству стала большая концертная фантазия «Шехеразада» С. Г. Курсанова в интерпретации доцента РАМ им. Гнесиных М. Белашук.
Десятидневный марафон стартовал концертом, приуроченным к 200-летнему юбилею Ф. Листа — одного из самых продуктивных транскрипторов в истории музыки. Программа охватила весь спектр явлений, составляющих транскрипторскую сферу и примыкающих к ней. Классические образцы листовских транскрипций составили его основное содержание. Прозвучали органная прелюдия и фуга Баха (С. Арцибашев), песни Шуберта и Шумана (М. Яхлакова), Этюд a-moll «по Паганини» (А. Животовская), Увертюра к «Тангейзеру» (М. Белашук), Miserere из оперы «Трубадур» (Д. Клинтон), Вальс из оперы «Фауст» Гуно (А. Стукалов) и обработки произведений русских композиторов. Среди последних отметим как популярные — «Соловей» Алябьева (С. Бачковский), «Марш Черномора» Глинки (Н. Кожин), Полонез из «Евгения Онегина» Чайковского (Н. Тонконогов), — так и довольно редко играемые — романсы А. Рубинштейна (Е. Колпакова). Важнейшей частью фортепианного наследия Листа являются виртуозные фантазии на заимствованные темы. Из данного раздела для участия в ретроспективе были выбраны Фантазия на мотивы из «Афинских развалин» Бетховена (А. Осеев) и Концертная парафраза «Риголетто» (Хо Джун Бум). Развитием этой линии стали прозвучавшие в концерте транскрипции оригинальных сочинений Листа и транскрипции его транскрипций: «Мефисто-вальс» в редакции Горовица (С. Арцибашев), листовская обработка «Пляски смерти» Сен-Санса в версии того же Горовица (Д. Маслеев), Фантазия, хорал и фуга на темы из оперы «Пророк» Мейербера в транскрипции Бузони (В. Жуков). Своеобразным приношением великому венгру, составившим третий блок вечера, стали образцы свободных «транскрипций на стиль» Листа: посвящённые ему пьеса Ц. Кюи «Тьма и проблески», композиция «Не забытый вальс» Б. Печерского, исполненные О. Георгиевской, а также «Отзвук “Мефисто-вальса”» В. Рябова, сыгранный А. Дворяновым.

Вечер 1 декабря, отданный транскрипторскому творчеству русских учеников Листа — А. Зилоти и П. Пабсту, как и первый концерт фестиваля, открылся мемориальной заставкой — транскрипцией И. Л. Худолея (1940–2001) «Ночи на Лысой горе» Мусоргского в исполнении доцента Московской консерватории В. Парамонова. Программа вечера наглядно демонстрировала «связь времён» в отечественной «транскриптиаде» XIX столетия, плодотворно продолжающей листовские традиции. Романс Листа «Должно быть сладостно душе» преобразился в адресованный Зилоти Этюд для левой руки Пабста (О. Бобровникова). Искусство самого Зилоти было представлено не только его хорошо известными обработками произведений Баха (С. Арцибашев) и А. Аренского (А. Резник), но и редко исполняемыми — «Лезгинкой» из оперы «Демон» А. Рубинштейна (А. Осеев), ноктюрном «Жалоба», написанным на две темы его учителя П. И. Чайковского из музыки к «Снегурочке» А. Островского (ученица ЦМШ А. Валенкова, преп. Н. Богданова), и транскрипцией романса его ученика — С. Рахманинова «Дитя! Как цветок, ты прекрасна» (С. Арцибашев). Из эффектнейших концертных фантазий П. Пабста на темы опер П. И. Чайковского, заслуживших в своё время самые высокие оценки как самого автора «Евгения Онегина», так и Листа, на концерте прозвучали редко исполняемые «Иллюстрации» к опере Чайковского «Пиковая дама» (Ю. Чернявская). С одной из «визитных карточек» Пабста — необычайно популярной в своё время транскрипцией «Колыбельной песни» Чайковского — выступил ученик ЦМШ Н. Ковалев (преп М. Канделаки). Ещё одно листовское направление, которое мы вправе обозначить, как «редакции-транскрипции», нашло своё продолжение в пабстовской версии Мазурки ор. 33 № 2 Шопена (Ю. Чернявская). Щедрыми «бонусами» программы стали впервые исполненное, не опубликованное до сих пор оригинальное произведение Пабста — Скерцо № 2, посвящённое Шуману и Шопену (Н. Гусев), а также Фантазия на темы Фортепианного концерта Пабста в исполнении профессора Академии музыки в Брюсселе О. Бобровниковой — первой исполнительницы этого концерта и других сочинений «русского Листа» в новейшее время. Нельзя не сказать, что за месяц до Фестиваля транскрипций в Концертном Зале ЦМШ на вечере памяти Л. Н. Наумова прозвучали все парафразы Пабста на музыку Чайковского в исполнении бывших выпускников Московской консерватории Д. Копылова, П. Домбровского, А. Гугнина и А. Кудряшова, а издательство «Дека-ВС» опубликовало в двух сборниках нотный текст всех пабстовских фантазий и выпустило компакт-диск, где все они записаны.
Третий вечер, познакомивший слушателей с творчеством пианиста и композитора Бориса Франкштейна, открыл череду авторских концертов современных транскрипторов и дал обильную пищу для размышлений о «пограничном» положении транскрипторского искусства, о взаимодействии в нём исполнительского и композиторского компонентов. Привлекли внимание значительные премьеры, прозвучавшие в мастерском исполнении самого автора транскрипций — сюита «Щелкунчик‑2» и фрагмент из оперы Р. Щедрина «Мертвые души» под титулом «Триумф Чичикова».
Вечер открыла возникнувшая из сочинений Жоскена де Пре композиция Б. Франкштейна «Després. Depression» в интерпретации Фёдора Амирова. Пианист ловко манипулировал сразу тремя источниками звука: роялем, детским синтезатором и самоваром, установленным на рояле. Несмотря на многообещающее название, сочинение не навеяло уныния на слушателей. Напротив, мерная капель, изливающаяся на поднос из «водобачкового инструмента», умиротворённые звуки романса «Вечерний звон», вплетающиеся в контрапункты Жоскена, погрузили аудиторию в состояние безмятежного покоя, из которого её вскоре вывела дерзкая Сюита из оперы «Нос» Шостаковича. Авангардный опус молодого гения поставил перед транскриптором чрезвычайно сложные задачи. Выскажу предположение, что художественная убедительность транскрипции Франкштейна, вероятно, во многом была предрешена его опытом работы в качестве концертмейстера в Камерном музыкальном театре Б. Покровского, где «Нос» был поставлен в 1974 году. В стремлении приблизиться к звучанию оригинала последний номер сюиты предлагает пианисту трудности поистине инфернального порядка, с которыми с честью справился Ф. Амиров. Дополнением и эффектным завершением сюиты стала динамичная транскрипция для двух роялей Галопа из первого действия оперы, азартно исполненная Франкштейном и Амировым.
До начала «эры звукозаписи» одним из важнейших побудительных мотивов создания обработок было стремление заинтересовать слушателей новыми или малоизвестными произведениями, которые достойны быть услышанными. Оперные партитуры композиторов ХХ столетия не так уж часто становятся объектом внимания транскрипторов. Поэтому такие работы Б. Франкштейна, как Сюита и Галоп из оперы «Нос» Шостаковича и «Триумф Чичикова» из оперы Р. Щедрина «Мёртвые души» по сути дела активизируют пропагандистскую функцию транскрипций в век мультимедийных технологий.

Жёсткая линеарность оперы Шостаковича, её обострённо диссонантный язык, сложнейший стилистический сплав и строжайшая конструктивная дисциплина партитуры Щедрина полностью исключают применение привычных пианистических формул и общедоступных фактурных «красот». Непростой тематизм этих опер вряд ли смог бы стать основой для жанра виртуозной фантазии романтического плана. Но их, хотя бы частичная, адаптация к возможностям фортепиано оказалась вполне уместной именно в виде транскрипции. Эта работа потребовала от транскриптора самобытного музыкантского мышления, которым Б. Франкштейн, к счастью, и обладает. Поэтому его попытки найти фортепианный эквивалент экспрессивному речитативу и натуралистической звукописи, передать экстремальные перепады динамики и высочайший вольтаж кульминаций оказались во многом удачными, и, думается, эти транскрипции имеют все шансы войти в современный репертуар пианистов.
Среди последующих номеров программы три опуса правомерно отнести скорее к оригинальным произведениям, нежели к транскрипциям — это сюита «Щелкунчик‑2», обозначенная автором как «Фантазия на темы П. И. Чайковского», «Комментарий к Первой сонате С. С. Прокофьева» и «Концертные упражнения» по Брамсу. Рассказывая сказку о Щелкунчике на новый лад, Б. Франкштейн обратился ещё и к пьесам из «Детского альбома». Сохраняя свою собственную линеарную и гармонически диссонантную манеру письма, он сумел по-новому подчеркнуть заложенную в партитуре балета романтическую коллизию добра и зла, максимально резко заострить контраст светлых, проникновенно звучащих лирических образов и недоброй, агрессивной скерцозности. «Комментарий» к сонате Прокофьева — не более, чем довольно протяжённое и шумное смешение различных «стилистических срезов» музыки ХХ столетия. Зато «Катехизис» брамсовского пианизма — его «Упражнения» предстали в изобретательных, порой тонко опоэтизированных модификациях. Это сочинение было исполнено учеником Б. Франкштейна — Дм. Смирновым, который в завершение программы предложил публике свою обработку «Moto perpetuo» Н. Паганини — «крепкий орешек» для левой руки любого пианиста.
Программу четвёртого фестивального вечера составили транскрипции и концертные фантазии профессора ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова Аиды Исаковой в исполнении учениц её класса. Как и Б. Франкштейн, А. Исакова окончила Московскую консерваторию по двум специальностям — фортепиано и композиция. Хорошо известны её транскрипции для скрипки и фортепиано, входящие в репертуар скрипача М. Федотова и пианистки Г. Петровой. Поражает смелость транскриптора в выборе объектов обработок для этого дуэта: здесь и монументальный фортепианный цикл («Картинки с выставки» М. Мусоргского), и симфоническая увертюра («Ромео и Джульетта» П. Чайковского), и балетная партитура («Лебединое озеро»). В своих транскрипциях для фортепиано А. Исакова обращается к традиционному кругу произведений — русской и зарубежной оперной классике, к оркестровым партитурам и вокальной лирике. Диалог с исходным материалом она осуществляет в достаточно широких границах, которые простираются от строгой приверженности стилю оригинала до гротескного заострения его отдельных черт. При обращении к характерным и (особенно!) инфернальным образам А. Исакова не опасается эстрадной броскости фактурных приёмов, которая иному придирчивому уху может показаться чрезмерной. Транскриптор здесь выказывает себя приверженцем эстетики «искусства представления», где актёр не заботится о жизнеподобии своего персонажа, а создаёт порой карикатурные, но запоминающиеся образы. «Блоха» Мусоргского (И. Бойченко), «осовремененная» кластерами, гротескными регистровыми сопоставлениями и вездесущими глиссандо, из горестной притчи превращается в эксцентричную сценку из телешоу. Декоративная сторона доминирует и в транскрипции Куплетов Мефистофеля из оперы «Фауст» Гуно (И. Кощеева), где «посланец ада» оборачивается эдаким — опять же пародийным, трафаретным — оперным злодеем, еще более условным, чем его театральный прообраз. Совсем другие средства применяет транскриптор в лирической сфере, где её стилистический диалог с автором оказался, на наш взгляд, наиболее убедительным. Элегия и Вальс из Серенады для струнного оркестра П. И. Чайковского (Т. Чистякова), романсы Чайковского и Рахманинова (Т. Бочкарёва), Andante cantabile из Пятой симфонии Чайковского (Р. Соловьёва) — эти транскрипции отмечены ценнейшим качеством — обаянием подлинности и, к тому же, прекрасно звучат на фортепиано. Обработка для двух роялей «Половецких плясок» А. Бородина (дуэт И. Кощеева — А. Кошевая) также привлекла бережным отношением к оригиналу и одновременно изобретательной фактурой. А. Исакова, несомненно, одна из значительных фигур в отечественном транскрипторском искусстве, обладающая ярким и сразу узнаваемым индивидуальным почерком. К огромному сожалению, рецензируемый концерт стал её последним полномасштабным авторским вечером — в конце марта пришла печальная весть о её неожиданной кончине.
Пятый вечер фестиваля познакомил московских меломанов с транскрипторским творчеством титулованного гостя — народного артиста Белоруссии, лауреата Государственной премии РБ, профессора Белорусской академии музыки Игоря Оловникова. Выпускник Московской консерватории по классам Я. Флиера и М. Воскресенского (аспирантура), он продемонстрировал великолепную пианистическую форму, блестяще сыграв свои добротные и, порой, весьма нелёгкие обработки произведений Баха, Альбинони, Глинки, Россини, Франка, Сен-Санса, Танеева, Рахманинова и белорусского композитора Г. Вагнера. Имеются все основания назвать транскрипции Оловникова классическими образцами этого вида творчества. Они полностью лишены «композиторских амбиций» и по праву принадлежат магистральному направлению отечественной транскрипторской традиции, согласно которой все внесённые транскриптором изменения должны находиться в «стилистическом поле» оригинала и обязаны служить благородной цели наиболее полной передачи авторского замысла в ином инструментальном облике. Ювелирно тонко в использовании регистровых красок рояля сделана, в частности, и Сюита для двух фортепиано из «Лебединого озера» Чайковского, которая в исполнении транскриптора и его ученицы — М. Климович достойно завершила программу. Следует заметить, что транскрипции из балетов Чайковского становятся настолько распространённым явлением, что на одном из будущих фестивалей есть все основания ожидать специально посвящённую им программу — скажем, «Чайковский-дивертисмент».
Вот и на следующий день (5 декабря) публика смогла познакомиться еще с одним «фортепианным портретом» бессмертного балета, на этот раз в сольной версии Карена Корниенко на его персональном вечере. Для транскрипторской манеры Корниенко характерен масштабный, театрально приподнятый пианизм романтического плана с ярко выраженным виртуозным началом. В центре его творческих устремлений — значительные симфонические полотна, прежде всего, Чайковского: балеты, симфоническая поэма «Воевода» (исполненная на прошлом фестивале), фантазия «Франческа да Римини» (премьера нынешнего вечера). Он умеет выстраивать целостную концепцию произведения, проводить увлекающие своей эмоциональностью длительные динамические нарастания, мастерски передавать напряжённые кульминации. В рамках пышного позднеромантического стиля его фортепианная палитра весьма разнообразна. С одной стороны, в ней присутствуют сочные, праздничные краски, эффектный пианистический декор, с другой — тонкая, акварельная звукопись, завораживающая поэзия тихих звучаний (особенно убеждает его версия «Волшебного озера» А. Лядова). Однако при обращении транскриптора к «Вальсу-фантазии» Глинки его нарядная концертная манера перешла, как показалось, в псевдоромантическую велеречивость и вступила в стилистический конфликт с изящной партитурой оригинала. Здесь неизбежно возникают сопоставления еще с двумя вариантами глинкинского шедевра, которые исполнялись на фестивале — целомудренно строгой, любовно бережной обработкой И. Оловникова и «постмодернистской» трансформацией В. Грязнова, насыщенной тематическими и фактурными цитатами, охватывающими чуть ли не всю историю романтической вальсовости. Транскрипция Корниенко занимает промежуточное положение между этими полюсами: потеряв высокую простоту подлинника, его благородную элегичность, она не обрела взамен ассоциативной многомерности, которая художественно оправдала бы подобный, право же, излишне шикарный наряд.
Но то, что было не к лицу «Вальсу» Глинки, пришлось впору вальсам Штрауса с их неистребимым венским жизнелюбием. Даже программка седьмого вечера фестиваля («Штраус-сюита»), на обложке которой были помещены репродукции двух вполне гедонистических полотен — «Завтрак на траве» Э. Мане и вариация этого же сюжета кисти Ф. Ботеро, — настраивала слушателей на ожидание праздника — праздника раскрепощённой виртуозности, лишенной ложного глубокомыслия и порою гуляющей «сама по себе». И, надо сказать, что праздник состоялся. Пианисты с завидной лёгкостью справлялись с баснословными трудностями и «техническими ловушками», расставленными именитыми транскрипторами. Мелодии «короля вальсов» предстали в роскошных бальных нарядах работы знаменитых виртуозов далекого и недавнего прошлого — Таузига (А. Борисов), Грюнфельда (Н. Мавлюдов), Шульц-Эвлера (Ю. Фаворин), Годовского (А. Стукалов, М. Яхлакова, С. Кузнецов), Фридмана, Пеннарио (А. Стукалов). Это был бал упоительных мелодий, пьянящих ритмов, пиршество вышколенных пальцев и виртуозных фейерверков — блистательное и, увы, временами, утомительное торжество «солнечной» стороны транскрипторского искусства (вечер был составлен и проведен Отари Очхикидзе). Рецензент, ошеломленный лавиной несущихся звуков, растерянно вспоминал сцену из чеховского рассказа: «Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему». Пианисты (и пианистка — М. Яхлакова), действительно, были очень хороши, и они не могли не нравиться. Что же касается исполненного ими репертуара, то в нём сияние подлинных украшений — тончайшей контрапунктической работы в парафразах Годовского, элегантно отточенной фактуры Таузига — нередко смешивалось с назойливым и обманчивым блеском «пианистической бижутерии», рассыпанной с безудержной щедростью. Разительным контрастом к жизнеутверждающей штраусиане стала суровая, мистическая и монументальная Фантазия и фуга Листа–Бузони на хорал «Ad nos, ad solutarem undam» из оперы Мейербера «Пророк». Быть может, это впечатление и субъективно, но уже минут через двадцать, несмотря на достойные уважения старания прекрасного пианиста В. Жукова, в сознание начала закрадываться предательская мысль, что крайности всё-таки сходятся: велеречивая серьёзность и возвышенно-патетический тон способны оказывать такое же утомляющее действие, как и «невыносимая лёгкость бытия» виртуозных опусов.
П. И. Чайковский в письме в Н. Ф. фон Мекк предрекал: «Я убеждён, что лет через десять “Carmen” будет самой популярной оперой в мире». Это предсказание сбылось в полной мере, в том числе и в области транскрипторского искусства. Поэтому девятый вечер фестиваля, получивший наименование «Кармен-сюита», смог охватить лишь небольшую часть мировой «карменианы». И здесь не обошлось без «тени» Листа — к традиции его «фортепианных партитур», передающих оркестровые звучания в фортепианном эквиваленте, примыкают транскрипции А. Каменского — Увертюра (Е. Агейчик) и Антракт к IV действию (А. Борисов). Другой распространённый подход — «салонно-виртуозный», где специфически фортепианные краски преобладают над стремлением к оркестральности, был намечен «Цыганской песней» в обработке М. Мошковского (А. Стукалов) и Вариациями на это же тему В. Горовица (Н. Волов). Вариации, как известно, не имеют авторской нотной записи, что не помешало им стать вполне репертуарным блестящим образцом «неписьменного пианистического творчества». Современные транскрипторы, не склонные довольствоваться только столбовыми дорогами, проложенными предшественниками, нередко, иронически переосмысливая наследие прошлого, вступают на извилистую и опасную тропу постмодернизма. Так, в «Хабанере на двоих» В. Грязнова, исполненной фортепианным дуэтом учеников ЦМШ (Н. Ковалёв — Хэ Юйчень), мелодия Бизе опрометчиво примеряет кокетливые наряды «от Гершвина» и постепенно преображается в знойное танго.
Опера «Кармен» — признанный чемпион по количеству созданных на её основе концертных фантазий и попурри для самых разных инструментальных составов. Доминируют фантазия драматического типа, раскрывающая главные коллизии оперы, и фантазия-дивертисмент, основанная на сюитном принципе. Помнится, критикам, важно повторяющим фразу Вольтера «Все жанры хороши, кроме скучного», Пушкин резонно возразил: «Вольтер не сказал: «одинаково хороши». Для нас художественные достоинства упомянутых разновидностей также «не одинаково хороши». Одно дело — бузониевская «Камерная фантазия на темы «Кармен»», сдержанная и строгая, лаконично очерчивающая перипетии сюжета. Другое — внешне эффектные опусы, с большей или меньшей изобретательностью варьирующие колоритный тематизм в произвольном сочетании. Такие сочинения представляют, скорее, инструментальный стиль своей эпохи, нежели индивидуальный стиль собственного автора. Концертная фантазия А. Розенблата, сыгранная дуэтом М. Паршина—А. Борисов, стала примером осовремененной модификации «лоскутного» попурри, испытавшего сильное воздействие легкожанровой эстрады. Концерт завершили две транскрипторские работы К. Корниенко: написанные специально для детей четырёхручные Куплеты Эскамильо (А. Яковлев—Б. Гришанов) и восьмичастная сольная «Сюита-фантазия», с театральной экспрессией и виртуозным размахом сыгранная самим автором.
Транскрипторский марафон завершился достойным эпилогом — внушительным финальным концертом, продолжавшимся более пяти часов. Содержание этого действа полностью соответствовало подзаголовку фестиваля — «история и современность». «Все промелькнули перед нами, все побывали тут»: концерт был насыщен и перенасыщен премьерами, классическими и раритетными образцами транскрипторского искусства, в нём участвовало около 30 музыкантов, охвачены почти все явления, примыкающие к транскрипции: вариации, каденции, концертные фантазии. Отчётливо наметились репертуарные горизонты современных пианистов и особо «лакомые» для транскрипторов страницы истории музыки, наиболее часто становящиеся объектом их внимания: Бах, Паганини, Чайковский, Рахманинов, Гершвин.
Баховское направление было представлено пьесами из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» (ученицы ЦМШ А. Остроумова и М. Чечулина, преп. М. Канделаки) и их впервые показанными романтизированными концертными версиями Э. Мак-Доуэла (Н. Кожин), органными произведениями в классической бузониевской обработке (учащийся ЦМШ А. Выжанов, преп. В. Ермаков) и в премьерной транскрипции В. Мержанова (А. Борисов). «Вариации» В. Лютославского (Любовь и Анастасия Громогласовы) и «Восемь вариаций» Н. Соколовской на тему 24-го каприса Паганини ненадолго, как Шуман в «Карнавале», воскресили в Зале на Кисловке демоническую тень великого генуэзца. «Вальс цветов» из «Щелкунчика» в нарядном фортепианном варианте ученика Ф. Бузони — П. Грейнджера (А. Борисов) и «Иллюстрации к опере “Пиковая дама”» П. Пабста (Д. Копылов) в полной мере продемонстрировали те качества, которые сам Пётр Ильич считал необходимыми для транскриптора — «смелость, инициатива, творчество, отсутствие рабского подчинения авторитету композитора, сила и блеск». «Колыбельная» Чайковского, трансформированная М.-А. Амленом в Этюд для левой руки соло (М. Белашук), к счастью, не потеряла лирической теплоты оригинала. Чистоту и наивность детских песенок П. И. Чайковского — каждый по-своему — сумели сохранить и оттенить в своих обаятельных транскрипциях С. Фейнберг и С. Мовчан (А. Резник), а вскрыть в детской грусти взрослую тоску и безысходность смог в своей свободной обработке Б. Берлин (О. Георгиевская). Безыскусный же, уютный, такой домашний «Ната-вальс» в маньеристской парафразе А. Браже (и в его же исполнении) будто намеренно переместился из тургеневского скромного усадебного интерьера в эпатажную атмосферу декадентского салона. Замечу, что подобные манипуляции пианисты никогда не рискуют проделывать с произведениями С. Рахманинова. Как правило, его собственное фортепианное письмо становится идеалом для практически всех транскрипторов, обращающихся к инструментальным и вокальным опусам автора «Сирени». Это наблюдение подтвердили Andante из Виолончельной сонаты в обработке А. Володося (Е. Колесникова), «Романс» из «Шести пьес для фортепиано в 4 руки», ор. 11, переложенный А. Йохелесом для рояля соло (Д. Ястржемская), и «Вокализ» в транскрипции и исполнении композитора В. Агафонникова.
Кульминацией вечера стала сыгранная автором совместно с Ю. Василенко Рапсодия В. Грязнова на темы оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс», созданная специально для дуэта Н. Петров—А. Гиндин и посвящённая светлой памяти Николая Арнольдовича. Это более чем получасовое сочинение далеко выходит за рамки жанра концертной фантазии. Добавлю, что Грязновым подготовлена и с успехом исполнена версия Рапсодии для фортепиано с оркестром. И это работа подлинного мастера транскрипции.
На заключительном концерте вновь явственно обозначились два полярных направления транскрипторского творчества: линия, ориентированная на сугубо подчинённое, служебное положение виртуозно-инструментальной стороны, и тенденция, берущая курс на полное раскрепощение виртуозного начала, на его обособление от концептуальных задач. В рамках первого направления господствовали транскрипторская скромность и умеренность, стремление максимально приблизиться к стилю оригинальной партитуры, не впадая при этом в «рабскую зависимость» от неё. Подобный подход характерен для тонкой и стилистически достоверной транскрипции М. Дубова по сказочным оркестровым картинкам А. Лядова «Волшебное озеро» и «Баба-Яга» (А. Кискачи). Второе направление, особенно любимое пианоманами, с упоением предающимися наивной радости пианистических фейерверков, представлено так называемым «бисовым репертуаром», утверждающим транскрипторское своеволие, а иногда и откровенный произвол, который может быть оправдан только эталонным качеством пианистического воплощения. Что делать! Олимпийские рекорды техницизма манят молодых. Это, как говорил Г. Г. Нейгауз, «ослиный мост» будущего подлинного виртуоза. Поэтому с таким удовольствием и хорошим спортивным азартом студенты Музыкального колледжа при Московской консерватории набрасываются на «Турецкий марш» Моцарта—Володося (К. Емельянов) или на горовицевскую версию «Ракоци-марша» (И. Лушпа). Вот уж действительно: «Но юность нам советует лукаво, И шумные нас радуют мечты».
Среди премьер программы — настоящая коллекция фортепианных редкостей: Вариации на тему Гайдна К. Рейнеке (С. Бачковский), каденции В. И. Сафонова к 1‑й и 3‑й частям Концерта d‑moll Моцарта и его же транскрипция Антракта к IV действию оперы «Руслан и Людмила» (А. Борисов), песня Моцарта «Спи, моя радость, усни» и романс Шумана «Как ландыш ты прекрасна» в обработках выдающегося аккомпаниатора Дж. Мура (А. Рахманова) и Lieder Р. Штрауса в версии В. Гизекинга (В. Егоров). Но, пожалуй, центральной премьерой вечера стал Парафраз А. Марковича на темы из оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», который напомнил об одном из первых концертов фестиваля — наэлектризованном современными интонациями и ритмами вечере Б. Франкштейна — и поэтому создал в восприятии слушателей некое подобие репризы для законченной формы всего фестиваля. Парафраз с неукротимой импульсивностью сыграл А. Сергунин, представивший также свою собственную головоломную транскрипцию фрагментов из балета И. Стравинского «Весна священная».
Закономерным продолжением фестиваля воспринимался состоявшийся 10 декабря в Камерном зале Дома музыки концерт цикла «Восходящие звезды русской фортепианной школы», посвящённый, как уже говорилось, 50‑летнему юбилею М.-А. Амлена, — он присутствовал в зале в качестве почётного гостя. В «молодёжную сборную по пианизму» вошли питомцы ЦМШ, студенты, аспиранты и преподаватели Московской консерватории: П. Трохопулос, М. Яхлакова, А. Стукалов, С. Кузнецов, Н. Волов, В. Жуков, Ф. Амиров, Ю. Фаворин и Д. Клинтон. Большая часть из них участвовала и в фестивале на Кисловке. Программа концерта состояла из произведений, входящих в репертуар канадского маэстро, и из его собственных виртуозных опусов. Все пианисты выглядели весьма достойно, и юбиляр, судя по всему, остался доволен поднесённым подарком. Но, если будет позволено высказать индивидуальные предпочтения, то мне хотелось бы отметить благородную, вдумчивую манеру С. Кузнецова, проявившуюся даже в «Летучей мыши» Штрауса–Годовского, где эти качества не являются самыми необходимыми; элегантное, безупречное и рафинированное мастерство Ю. Фаворина, сделавшего из чуть ли не пародийной акробатики «Гимна моряков» Оффенбаха–Гимпеля подлинный пианистический шедевр; острохарактерный и эксцентричный стиль Ф. Амирова, так кстати подошедший к невероятно трудным этюдам Амлена.
Гармоничные индивидуальности Кузнецова и Фаворина естественно вписываются в отечественную пианистическую традицию, но противоречивая фигура Фёдора Амирова стоит несколько особняком. Мне кажется, что этот, безусловно, талантливый и глубокий музыкант — enfant terrible московской пианистической школы, вызывающий у ряда авторитетов глухое раздражение, восполняет недостающее в современном русском исполнительском искусстве, но столь необходимое амплуа «нарушителя спокойствия». Оставив в стороне масштабы дарования, замечу, что в разное время такими «неудобными» фигурами были и Глен Гульд, и Фридрих Гульда. В отечественной истории пианизма сохранились легенды о девиантном поведении Всеволода Буюкли, о проповеднических «чудачествах» Марии Вениаминовны Юдиной. В этой провокационной роли наличествует осознание своей «инакости», нерядоположности официальной профессиональной среде, присутствует, — наконец выговорю это слово, — вполне уловимый элемент юродства. «Юродство, — пишет А. М. Панченко, — противостоит рутине. Юродивый «шалует» с той же целью, что и ветхозаветные пророки: он стремится «возбудить» равнодушных зрелищем «странным и чудным»». Амиров нередко «шалует» на концертной эстраде, смело идёт на «странные и чудные» репертуарные эксперименты, не чуждается и неакадемических форм музицирования, играет в рок-группе «Рада и терновник» и, как оказалось, участвует в протестных акциях. Его арест во время митинга на Болотной площади поставил на время под сомнение его участие в юбилейном концерте и вызвал шквал возмущения в Интернет-сообществе. Поэтому победное появление новоявленного «декабриста» на подмостках Камерного зала было встречено сочувственной овацией.
Итогом концерта к юбилею Амлена стала констатация, что у русской пианистической школы есть не только великое прошлое, но и достойное будущее. Её «восходящие звёзды» великолепно обучены и «годны к строевой». Они многое знают и многое могут. Среди них растут крупные художественные индивидуальности. Но всё же согласимся, что в русской пианистической школе длительное время господствовала восходящая ещё к братьям Рубинштейнам «романтическая парадигма», столь любезная отечественному слушателю. У новой генерации пианистов намечается выход за пределы этой эстетики. Может быть, они выглядят более прагматичными и внешне более благополучными, чем предыдущие поколения музыкантов, познавшие цену жизни в драматические периоды истории. Но, несомненно, молодые стали более открытыми миру, более свободными, раскрепощёнными, более смелыми в репертуарном поиске. Они видят, как падает социальное положение академической музыки и музыканта. Они знают, что ушли в прошлое те времена, когда советских лауреатов международных конкурсов встречали как всенародных «героев пианистического труда». Они понимают, что в условиях жесточайшей конкуренции исполнителю, рассчитывающему на внимание публики, необходимо найти свою «репертуарную нишу», свой путь в искусстве. И этот парад нового возросшего пианистического племени, наряду с панорамой «транскрипторского феномена», — главный итог уникального по замыслу художественного события, случившегося в Москве в декабре 2011 года.